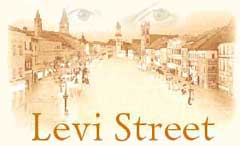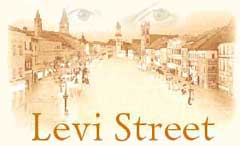В последнее десятилетие XIX века (плюс-минус 3-4 года) в России рождались гении. Нет, не нобелевские лауреаты – этих как раз среди них почти и не было, – а «просто гении», и плотность их появления на свет не может не вызывать изумления. В литературе это были Булгаков и Пастернак, Ахматова и Мандельштам, Цветаева и Маяковский. В музыке – Сергей Прокофьев. В физике - Петр Капица, Игорь Тамм и создатель теории расширяющейся вселенной Александр Фридман. В биологии - Николай Вавилов и Тимофеев-Ресовский. В физиологии – автор теории построения движений человека и животных Николай Бернштейн. А в психологии…
Но о подобной аттестации своего отца дочери Льва Семеновича Выготского довелось услышать лишь много лет спустя после его смерти, да к тому же из уст его американского коллеги. «Надеюсь, вы знаете, что ваш отец для нас Бог?» – чуть не с порога объявил своей слегка смешавшейся посетительнице приехавший в Москву профессор Корнельского университета Юрий Бронфенбреннер. Да, как это не раз уже бывало в отечественной истории, признание и слава пришли к Выготскому не в советской России (узкий круг учеников и последователей не в счет), а на Западе, после перевода его книги «Мышление и речь» на английский язык. «Когда я открыл для себя его работу о языке и речи, я не спал три ночи, – признавался жене ученого его коллега из Лондонского университета Бэзил Бернстейн. – Мы в долгу перед русской школой и особенно перед работами, основывающимися на традиции Выготского...» А Стивен Тулмин из университета в Чикаго даже сравнил его с Моцартом в психологии. Ах, если б хотя бы тень от этих похвал дотянулась до самого Льва Семеновича, может, он и прожил бы чуть подольше, но…
«От Рафаэля до Пушкина, / От Лорки до Маяковского / Возраст гениев – тридцать семь». И если правда, что гению моцартианского склада не положено переступать назначенную ему свыше черту, то Выготский всей своей жизнью и судьбой как нельзя лучше вписывается в это романтическое прокрустово ложе. Десять лет редкой по интенсивности научной деятельности и ранняя, почти скоропостижная, смерть от туберкулеза в самом расцвете творческих сил. А дальше – 25 лет полного, глухого забвения, когда не то что публиковать – ссылаться на работы Выготского было строжайше запрещено. Когда его дочь студенткой психологического факультета передавала однокурсникам сбереженные книги отца тайком, из-под полы. Удивительно ли, что и западный научный мир не знал о нем, по сути, ничего по крайней мере до 1962 года. А у нас вокруг его имени складывались легенды.
Грешно говорить «вовремя умер», но в случае с Выготским это, увы, именно так. Да, об этом как-то меньше помнят, но у психологов тоже была своя голгофа, как позднее у генетиков или языковедов. Бог, как говорится, уберег, и сам Выготский не дожил до всех этих грязно-разносных статей и брошюр, как бы подготовлявших «снизу» постановление ЦК ВКП(б) от 4/VП-36 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов». Но чашу эту до дна довелось испить его ученикам и последователям. Не представляя себе психологической науки без трудов Учителя, они вынуждены были излагать его идеи без цитат и без ссылок. А в итоге к началу 50-х годов выросло целое поколение педагогов и психологов, даже не знакомых с именем Выготского.
Однако сказать о Выготском «вовремя умер» – значит сказать только половину правды. «Вовремя родился» – это тоже о нем и как нельзя лучше отражает суть его взаимоотношений со своей эпохой. Да, Выготский действительно принадлежал к той части российской интеллигенции, которая приняла Октябрьскую революцию. Но ведь и братья Вавиловы, и Пётр Капица тоже сотрудничали с советской властью. И тем не менее, никак нельзя заключить, что без революции все они не состоялись бы как ученые. С Выготским все по-другому.
Из революционной идеологии он извлек то, что было по-настоящему близко ему по духу – методологию марксизма, пафос его материалистической диалектики (совершенно неоправданно списанной сегодня в архив заодно с утопическими социальными воззрениями). И на этой основе возводил уже здание своей собственной теории сознания и мышления, насквозь проникнутой идеей его материальной, причинной обусловленности. Хотя начало его формирования пришлось еще на «доматериалистическую эру», в нем на редкость счастливо сошлись две струи: обостренная рефлексия интеллигента «серебряного века» с его необъятной эрудицией и глубоко впитанным культурным наследием и деятельный пафос преобразователя и строителя ревоюционной эпохи. Во всяком случае, та дерзость, с которой он, выходец из еврейской белорусской глубинки, провинциал и, в сущности, дилетант, берется без оглядки на авторитеты за решение сложнейших и почти не тронутых в ту пору проблем психологии, бесспорно оттуда.
Сохранились воспоминания людей, присутствовавших в 1924 году в Петрограде на первом публичном выступлении Выготского – 2-м Всероссийском съезде психоневрологов, куда он был послан делегатом Гомельского ГубОНО, получившим «разнарядку» на одного практического низового работника. Не берусь судить, какой вклад в теорию и практику психоневрологии внес этот съезд, но в судьбу самого Выготского – решающий.
«Приехал никому не известный молодой человек из Перми (?) и сделал такой доклад, что потряс всех!» – седовласый профессор, рассказывавший об этом много лет спустя дочери ученого, перепутал биографическую деталь, но доклад-то он не забыл и через четыре десятилетия! Впрочем, был в том зале и еще один внимательный молодой слушатель, не спускавший глаз с оратора, пока тот зачитывал по бумажке свое выступление. Подойдя к нему в перерыве, чтобы выразить свое восхищение, он случайно заглянул в этот сложенный листок и обнаружил, что тот… пуст. Молодой человек, Александр Лурия, впоследствии одна из величин в мировой психологии, занимал тогда пост ученого секретаря Психологического института при 1-м МГУ и обладал, как сейчас говорят, некоторым административным ресурсом. Именно он уговорил своего шефа, профессора Корнилова, пригласить в Москву никому неведомого провинциала.
Приглашение Выготский принял и уже через несколько месяцев поселился вместе с приехавшей следом молодой женой в подвальном помещении того самого института на Моховой, где ему предстояло теперь и жить и работать. Формально – под началом 22-летнего Лурии, несмотря на молодость снискавшего себе уже некоторую известность в своей науке. Но очень скоро ведущий и ведомый поменялись ролями. И не потому, что Выготский был несколькими годами старше. И Лурия, и другой столь же юный его коллега, а впоследствии не менее знаменитый Алексей Леонтьев, сразу же обнаружили в нем такой запас свежих идей и такую зрелость мысли, которая далеко опережала их собственную. И именно это, а не положение, не должность, сделали начинающего «мэнээса» признанным интеллектуальным лидером, к которому потянулась одаренная молодежь.
Так с каким же багажом приехал завоевывать научную Москву 27-летний преподаватель гомельского педтехникума, неведомо как сразу оказавшийся с нею вровень? Для человека его возраста, прямо скажем, с немалым. В его чемодане лежала рукописная монография «Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира», созданная им в 1915-16 годы, а сверх того рукопись «Педагогической психологии» и наполовину законченная «Психология искусства». Между самой первой и последней вещами пролегло семь лет, и все эти годы мысль Выготского неустанно пробивалась к корням и истокам того, что так глубоко волновало его с юности – загадке воздействия на человека художественного произведения.
Можно ли в провинции вырасти в серьезного психолога – без профессуры, без экспериментальной базы, без живого научного общения? Во всяком случае, в первые десятилетия прошлого века такое было возможно. Тем более, что никто в России подобных специалистов в ту пору не готовил, а девяносто процентов публикаций на эту тему выходило на иностранных языках. Но языками Выготский владел чуть не с пеленок и этим в первую очередь был обязан, конечно, семье, где образованию детей – а их, между прочим, было восемь, – уделялось особо пристальное внимание. Однако и при всем своем знании языков он все же разделил бы судьбу большинства провинциальных эрудитов, если б не удача, не случай, связанные с выигрышем в лотерею.
Дело в том, что в дореволюционной России действовала так называемая процентная норма, согласно которой в университеты принималось не более 3-4% выходцев из еврейских семей, и эта квота разыгрывалась только среди выпускников классических гимназий, что, впрочем, не освобождало их от вступительных экзаменов. 17-летний Выготский вытянул свой счастливый билет и в сентябре 1913 года стал студентом юрфака Московского университета.
Что такое была Москва 1913 года – последнего мирного года накануне мировой войны и последовавших за ней тектонических социальных сдвигов? Это временное затишье между двумя революциями. Это только что выстроенный по проекту инженера Нирнзее 10-этажный жилой «небоскреб» со сдающимися внаем дешевыми квартирами и лишь год как раскрывший двери для посетителей Музей изящных искусств на Волхонке. Это общедоступные «Исторические симфонические концерты» Михаила Ипполитова-Иванова и «открытый» университет Альфонса Шанявского на Миусах. Это первый сданный в печать поэтический сборник Бориса Пастернака и скандальное выступление 20-летнего Владимира Маяковского со стихотворением-вызовом «Нате» в кабаре «Розовый фонарь». Это многообразие литературных направлений и школ и кипение страстей на публичных чтениях и диспутах. Словом, это «серебряный век» в точке своего расцвета, и юноша из Гомеля, впервые оказавшийся в древней столице, попал сюда в не самые худшие ее времена.
Родители довольны: никому еще в их роду не давалось высшее образование, а адвокат (присяжный поверенный) – одна из самых престижных в России профессий, а главное, позволяющая заниматься адвокатской практикой вне черты оседлости. Только вот самого «юриста» влечет нечто совсем иное. И, параллельно с занятиями в госуниверситете, он начинает посещать лекции в университете Шанявского, совмещая учебу с должностью технического секретаря в газете «Новый путь».
В официальной справке, отражающей этапы его становления как психолога, Выготский написал: «Научные занятия по психологии начал еще в университете. С тех пор ни на один год не прерывал работы по этой специальности». И все же на первом месте для него стояло тогда другое. Вопреки традиционному пути приобщения к науке большинства своих коллег, Выготский шел к психологии от литературы и от искусства. Первой «станцией» на этом пути стала его дипломная работа о «Гамлете», выполненная на историко-философском факультете университета Шанявского под патронажем известного литературоведа Юлия Айхенвальда.
Что мог добавить юный шекспировед к тем эверестам литературы, уже написанной к тому моменту о «Гамлете»? Разве что добросовестно проштудировать все доступные ему источники. Но Выготский поступает иначе. Источники на трех языках он действительно проштудировал (а «Гамлета» в подлиннике знал почти наизусть), но всю эту литературу вывел за скобки. Да, да, в прямом смысле слова, поместив интереснейший ее разбор в комментариях, составивших как бы книгу в книге, а собственное исследование ограничил анализом исключительно текста как такового. Этот свой этюд автор назвал опытом «читательской критики», не предполагая, конечно, что предвосхищает тем центральную идею структуральной лингвистики – сводить художественную специфику произведения к единственной его объективной данности, авторскому тексту.
1916 годом помечена вторая, последняя редакция монографии о «Гамлете», а 1917-й – год окончания Выготским Московского университета, а, вместе с тем, и конца «серебряного века». Время крушения и ломки, время торжества трезвого материализма, которому вроде бы и дела нет до его скорбного, мятущегося на разломе двух миров героя. И 20-летний юрист с так мало значащим в эту беззаконную пору свидетельством о прослушанном курсе юрфака оставляет Москву и уезжает к семье, в Гомель, где, в связи с болезнью матери и младшего брата, остро нуждаются в его присутствии. И хорошо, между прочим, что уезжает. Потому что кипящий политическими страстями миллионный город – не самое лучшее место для интеллектуального роста и духовных поисков.
Впрочем, гражданская война и немецкая оккупация не обошли стороной и Гомель, и всего, что перенесли за это время Выгодские (так писалась фамилия остальных членов семьи), в двух словах не перескажешь. Голод и безденежье, туберкулез матери и смерть от тифа среднего брата. Но, пожалуй, тяжелей всего далась семье болезнь младшего из братьев, общего любимца, которого на тринадцатом году жизни также настиг туберкулез в его самой тяжелой, скоротечной форме. В безумной надежде на исцеление мальчика пытаются вывезти в Крым. И в то самое время, когда благоразумный обыватель отсиживается за четырьмя стенами своей «домашней крепости», Лев Семенович с двумя больными – братом и матерью – пускается в путь через опасную, охваченную смутой и войнами Украину. Однако в Киеве мальчику стало так плохо, что взрослые поняли – не довезут. Пришлось вернуться, и еще год, пока мучительно долго выздоравливала мать, провел старший из братьев у постели умирающего младшего, одновременно приняв на себя и всю черную работу по дому.
Но вот самое страшное позади. В губернии прочно утвердилась советская власть, и для возвращения к нормальной жизни ей требуются специалисты, требуются учителя. И двадцатидвухлетний Выготский одним из первых откликается на этот призыв. Он идет преподавать русскую литературу в только открывшейся 1-й трудовой школе Гомеля. Вот когда пригодилась квалификация, полученная им в университете Шанявского! Но только один предмет и только одна школа – не мало ли это для его неуемной натуры? А ведь он чувствует себя подкованным еще и в психологии. И он берет на себя преподавание детской и педагогической психологи в педтехникуме и на педагогических курсах.
Но и этого мало. Как застоявшийся конь, он рвется в бой за новую советскую культуру и, параллельно со школой и техникумом, ведет занятия еще и в народной консерватории (там он читает эстетику и историю искусств), на рабфаке и на курсах Соцвоса, и вряд ли это «многостаночное» совместительство диктуется сугубо материальными соображениями. Вдобавок ему поручают (и, вероятно, по его же инициативе) заведование театральным подотделом Гомельского ОНО.
Но ведь в Гомеле нет еще своей постоянной театральной труппы, и юный культуртрегер мотается по городам и весям в неотапливаемых, забитых мешочниками поездах, зазывая в свою «глубинку» знаменитых и просто одаренных столичных актеров и целые театральные коллективы. А в местных изданиях – «Полесской правде» и «Нашем понедельнике» – густым потоком идут его отклики и рецензии на привозимые спектакли.
Но и это лишь часть возделываемой им культурной нивы. Быть может, впервые чувствует он себя по-настоящему востребованным. Впервые открывается перед ним такое широкое поле приложения для его не знающих еще своих берегов сил и способностей, о незаурядности которых он уже давно отдает отчет, и горячая волна сопричастности этому новому жизнестроительству накрывает его с головой. «И жить торопится, и чувствовать спешит…» И в самом деле, чего-чего только не значится в его послужном гомельском списке. Тут и должность литературного редактора издательства «Гомельский рабочий», и организация Музея печати, и издание театрально-литературного журнала «Вереск» (успело выйти всего несколько номеров). А еще литературные «Понедельники» в доме Союза работников просвещения с лекциями о Шекспире, Толстом, Короленко, Маяковском, а в придачу – еще и об Эйнштейне с его теорией относительности, и т.д. (можно устать от перечисления).
Да полно, тот ли это Выготский, что еще пару лет назад здесь же в Гомеле, во время приезда на каникулы, лихорадочно дописывал первый вариант «Трагедии о Гамлете», с головой уйдя в потусторонние миры любимого своего героя? Тот ли это Выготский, что, не прекращая следить за всем замечательным, что выходит на трех языках по литературоведению, психологии, философии, «без отрыва от производства» пишет свою «Педагогическую психологию» и приступает к «Психологии искусства»? А ведь каждая из этих вещей снабжена огромным справочным аппаратом, пестрит ссылками на работы десятков авторов, только чтобы обработать которые обыкновенному человеку нужны годы усердного труда.
Когда же успевал все это Выготский, и сколько часов было в его в «безразмерных» сутках? И что, вообще, подгоняло его в этом жадном лихорадочном стремлении объять необъятное? Никто не ответит уже на эти вопросы. Дневников он не вел, а никакой переписки тех лет до нас не дошло. Да и с кем было ему переписываться, если для столичных ученых такого психолога, как Выготский, в ту пору просто не существовало. А возможность поделиться сокровенными мыслями на эту тему с кем-нибудь у себя в Гомеле была для него также исключена, ибо ни одного мало-мальски сведущего в данной области человека на тот момент в городе не имелось.
Но не надо думать, будто только в мире этих высоких материй обретается творческая мысль Выготского. Да, может, и была в его прошлом такая пора, но она уже далеко позади – вместе со студенческой юностью, с лекциями в университете Шанявского и долгими ночными бдениями над «Трагедией о Гамлете». Захватывающе и тревожно переменилось все вокруг, будто сдвинулась сама ось мироздания. И, «покорный общему закону», переменился он сам. Но главное – в его жизнь вошла школа с звонкоголосым миром ее классных комнат и коридоров. Принято считать, что в психологию Выготский пришел от литературоведческих штудий, и это отчасти так. Однако не меньшую роль сыграло в его судьбе и пятилетнее учительствование. А любой вдумчивый учитель - это всегда еще и сам себе психолог. И все-таки мало быть просто грамотным психологом, надо еще и бесконечно любить детей, чтобы почувствовать ту великую созидательную работу, что день за днем вершится в мозгу каждого ребенка. Думается, что именно эта любовь и вывела филолога Выготского на его главную жизненную орбиту.
|